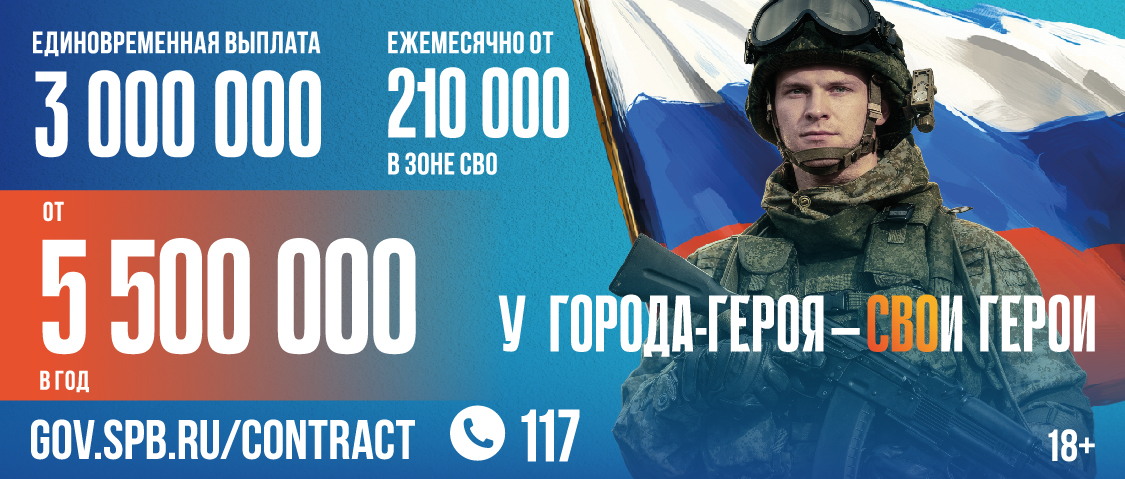ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
Европейские путешественники 18 века считали, что она похожа на поле. Её площадь превышает 5 гектаров. Почти 30 лет 18 века она называлась Адмиралтейским лугом, а в 20 веке почти 30 лет называлась площадью Урицкого. В центре её стоит самый высокий монумент в мире, выполненный из цельного гранита.
Здравствуйте! Я — Валерий Ефремов, и это программа «Петербургский текст», в которой мы читаем город как текст и тексты о городе.
Сегодня мы на Дворцовой площади — центральной площади Петербурга.
Дворцовую площадь можно читать как своеобразный палимпсест. Напомню, что этим термином обозначается рукописный текст, написанный поверх другого текста. Итак, начнём чтение этой рукописи. Слой первый. Дворцовая площадь: начало, или век восемнадцатый.
ОЛЬГА ПЕТРОВА, кандидат искусствоведения, заведующая сектором научных исследований истории и реставрации памятников архитектуры Государственного Эрмитажа:
Историю Дворцовой площади можно начинать с того момента, когда было заложено Адмиралтейство и крепость в 1704 году. Из-за обороны необходимо было устроить гласис — обширное пространство вокруг крепости, из которого впоследствии сформировались площади — Дворцовая, Адмиралтейская и Сенатская. Но это произошло значительно позже, а гласис, после того как он утратил фортификационное значение, превратился в луг. На некоторых планах 1730 годов пространство перед Адмиралтейством называется Адмиралтейский луг, а расположенные к востоку от большой перспективной дороги незастроенные пространства называются лугами. Но уже в 1720 году появилась трасса Луговой улицы — она проходила от начала нынешней Миллионной улицы с переломом до нынешнего Невского проспекта.
Вдоль Невы селились богатые государственные деятели — тут стояли каменные дома, но они были обращены парадными фасадами к Неве, а на Луговой улице жили более бедные петербуржцы. В основном это были моряки, мастеровые, один из жильцов Луговой улицы хорошо известен. Это Андрей Нартов — токарный мастер, который обучал Петра Первого. Ситуация коренным образом изменилась в 1730-е годы, когда на территории лугов возник Дворец императрицы Анны Иоанновны, а площадь перед дворцом решено было благоустроить. Там хотели сделать колоннаду, в центре установить скульптурную статую императрицы Анны Иоанновны.
Следующий этап — период правления императрицы Елизаветы Петровны. Она пыталась реконструировать дворец императрицы Анны Иоанновны, но пришла к выводу, что легче снести все существующие постройки. Было решено воздвигнуть вот это здание, сохранившееся до сих пор. Фасады дворца не повторяли один другой, были решены разнообразно. Над крышей на парапете были установлены каменные статуи, которые были заменены медными выколотными в конце 19 века.
ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
Что происходит после того, как появился дворец? У нас осталась вторая часть площади…
ОЛЬГА ПЕТРОВА, кандидат искусствоведения, заведующая сектором научных исследований истории и реставрации памятников архитектуры Государственного Эрмитажа:
В 1779-1784 годах по проекту архитектора Юрия Матвеевича Филькина были построены два дома. Их объединил единый фасад, они располагались таким полукругом по новой границе площади. Таким образом, стало очевидно, что дома на Луговой улице уже не соответствуют ни своим размером, ни своим архитектурным решением новым величественным зданиям, которые появились на площади.
ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
В 19 веке Дворцовая площадь приобретает привычный нам вид, становясь центром столицы Российской Империи, одержавшей победу над наполеоновской Францией. О триумфе напоминают Александровская колонна и Триумфальная арка Главного штаба.
ЕЛЕНА БЛИНОВА, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории архитектуры и сохранения архитектурного наследия Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина:
Это классический образец петербургского стилевого полифонизма. Все сооружения, которые мы видим, созданы хотя и в близкое, но в стилистически разное время. При этом, когда мы с вами сюда выходим, мы всегда поражаемся органичности этого пространства. В русской архитектуре такой приём называется диссимметрия. Нам сначала кажется, что всё асимметрично, а потом мы видим, что всё сделано по-разному.
Здесь есть и горизонтали, и вертикали, и когда мы уже хотим совсем эти какие-то идеальные пространства, мы пойдём под Арку Главного штаба и увидим там гипетр, и совсем уйдём в небо. Небо — очень важное качество нашего петербургского пространства, и оно тоже здесь играет очень важную роль.
Колонный строй здесь организован по одному принципу, который был задан Растрелли. Всё сделано в два яруса, но каждый раз принцип этой ярусности разный. Уникальный ордерный строй Растрелли — редкий случай утопленной колонны на 1/8. Издалека кажется, что она оторвана, а близко она, как бы сказать, с этим телом соединяется очень плотно.
Трёхчетвертная классическая колонна у Брюллова — полуколонна на самом деле, чуть-чуть подутоплена у Арки Главного штаба. И даже если мы будем помнить с вами, что не было вот этого зелёного леса Адмиралтейского бульвара, это тема античная, греческая. Открытое пространство, а потом идёт апопсия. Апопсия — это просвет. Несмотря на усилия вот этой ордерной системы, на самом деле площадь оказывается очень человечной и мягкой.
ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
Известно, что уже в 19 веке площадь стала использоваться для военных парадов. И когда открывали колонну Монферрана, то тоже было празднество, о котором писал Жуковский, что «такого, пожалуй, никогда в Европе не было: огромное стечение людей, солдат, и реальное ощущение имперского праздника».
ЕЛЕНА БЛИНОВА, доктор искусствоведения, профессор кафедры истории архитектуры и сохранения архитектурного наследия Санкт-петербургской академии художеств имени Ильи Репина:
Тема триумфа возникает здесь не как долженствование над нами, не как абсолют, а вот именно как некий идеал, который сопровождает нашу гражданскую и военную жизнь, и является таким вот балансом, идеалом между должным и сущным.
Колонна здесь, на самом деле, самая светлая, потому что светоотражающие способности её, полировка — они как раз и создают этот специфический эффект. С одной стороны — это много массы, а с другой стороны — это светоотражение позволяет ей хорошо смотреться и очень мягко, и чётко.
Если мы посмотрим на этого ангела, то ангел изображен в полёте. Его ножке неплотно стоят. Он стоит на воздушной сфере. В отличие от героев запада, это реальные люди, которые должны стоять на земле. Да, это их такая вот задача. Ангел, конечно, символизирует как христианский мир, так и мир вообще.
«На Невском, как прибой нестройный,
Растёт вечерняя толпа.
Но неподвижен сон спокойный.
Александрийского столпа»
ДМИТРИЙ ЛЮБИН, хранитель Александровской колонны, заведующий сектором «Арсенал» Государственного Эрмитажа:
19 век — это время колонн. Самые величественные памятники в Петербурге, Париже, на Вандомской площади в Берлине, в Штутгарте, в других местах — это именно колонны. Не мог Николай I не соответствовать этой традиции. Другого быть ничего не могло.
Единственное, Монферран предложил ему изначально поставить сюда обелиск. Николай подумал и отказал, полагаю для того, чтобы находиться в русле общей традиции установки таких главных государственных памятников.
ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
Это ещё и отместка Вандомской колонне Наполеона, которая будет пониже…
ДМИТРИЙ ЛЮБИН, хранитель Александровской колонны, заведующий сектором «Арсенал» Государственного Эрмитажа:
Безусловно, размер имел значение. И колонна на Дворцовой площади в Петербурге действительно на несколько метров выше, чем колонна на Вандомской площади. Отличает их ещё одна очень важная деталь — наверху нашей колонны фигура ангела, божественного посланца. Тогда как наверху Вандомской колонны — фигура земного правителя, императора Наполеона Бонапарта.
ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
Правда ли, что во время революции, после революции, во время советской эпохи были разные идеи как заменить ангела?
ДМИТРИЙ ЛЮБИН, хранитель Александровской колонны, заведующий сектором «Арсенал» Государственного Эрмитажа:
Ангел не соответствовал новому времени, и на разных празднованиях, которые проходили на Дворцовой площади, его научились заслонять и закрывать. В частности, десятками и сотнями шариков воздушных, из которых получался такой большой букет высотой метров наверное в 10. И этот букет парил над Александровской колонной, совершенно скрывая ангела с крестом. Нижнюю же часть любили закрывать таким подобием трибуны, на котором была изображена революционная символика и так далее.
Мифы вокруг колонны всегда есть, начиная с того, что Монферрану пришлось гулять, как нам с вами, здесь вокруг, дабы доказать, что колонна не упадёт от ветра или чего ещё.
В советское время хотели заменить ангела на изображение Иосифа Виссарионовича Сталина, но отказались от этого.
В годы Великой Отечественной войны собирались сдвигать эту колонну куда-то в сторону Арки Главного штаба и делать здесь аэродром, потому что, если брать сад вдоль Адмиралтейства, то здесь как раз могли взлетать два самолета парой. Слава Богу, от этого отказались, потому что тогда бы Дворцовая превратилась в военный объект и, скорее всего, претерпела какие-то разрушения.
ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
Колонна, воздвигнутая в честь победы Александра I над Наполеоном, официально называется Александровская. Однако после публикации стихотворения Пушкина «Я памятник воздвиг себе нерукотворный…» у нее появилось и второе название — Александрийский столп.
АЛЕКСАНДР КОЛОСКОВ, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и истории искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения:
Важно помнить о том, что он же говорит о поэзии, о себе как о поэте. Вот это «я памятник себе воздвиг нерукотворный», вот это «я» не относится к конкретной исторической личности, конкретной вещи, конкретной фигуре. Это «я» обобщенно, это «я» — поэт. Ангел, он как бы парит над городом, парит над ансамблем. Вот точно так же и поэт — он ведь оторван от обыденности, от повседневности. Памятуя об этом, мы всё-таки должны вспомнить ещё тот момент: Пушкин был свидетелем вот этой титанической работы по установке Александровской колонны, Александрийского столпа. Поскольку всё это происходило на его глазах, это, конечно, воспринималось им как что-то новое, необычное, как некое символическое действо, которое может стать источником вдохновения.
ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
А как сама Дворцовая площадь отразилась в русской литературе?
АЛЕКСАНДР КОЛОСКОВ, кандидат филологических наук, доцент кафедры филологии и истории искусств Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения:
Если мы говорим о Дворцовой площади как о таком символическом пространстве, законченном ансамбле, то мы должны понимать, что в 18 веке его ещё нет. Если мы берём 19 век, то мы помним натуральную школу, лирику гражданскую или любовную. И тоже там нет места площади, вот этот топас просто не работает. В Серебряном веке появляются стихотворения, в которых так или иначе упоминается Дворцовый ансамбль либо которые посвящены Дворцовой площади. Конечно, это и Адамович, и Мандельштам, и Иванов.
«Императорский виссон
И моторов колесницы, —
В черном омуте столицы
Столпник-ангел вознесён»
ВАЛЕРИЙ ЕФРЕМОВ, доктор филологических наук:
Итак чтение Дворцовой площади позволяет увидеть, как век за веком менялось предназначение места, как формировался её классический облик и как по-разному она отразилась в русской литературе.
А что есть ещё в этой прекрасной книге под названием Петербург? Узнаем в следующей главе. До новых встреч!